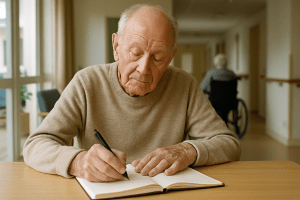В СТАРОМ ИШУВЕ, как назывались еврейские поселения в Палестине до провозглашения государства Израиль, люди, сказать по совести, жили крайне бедно. Скудных заработков, добываемых, главным образом, на поденных работах, и цдаки, присылаемой из-за рубежа, — ее называли халука — едва хватало для того, чтобы выжить. Но как бы ни была тяжела жизнь тогдашних иерусалимцев, судьба городских стариков была еще тяжелее. Финансовое положение общины не позволяло обеспечить ту минимальную заботу и уход, в которых отчаянно нуждались эти немощные, дряхлые люди.
Вот почему старикам случалось порой даже голодать — и подолгу. А прочие жители Иерусалима, честно говоря, были слишком заняты своими собственными заботами и неотступными мыслями о том, как накормить свои семьи, чтобы всерьез думать о положении стариков.
Был, однако, в городе человек, которого судьба стариков заботила больше всего. Его звали реб Элиягу Рейхман, и он работал секретарем в иерусалимском доме для престарелых. Тяжелая ответственность лежала на его плечах — ведь от него в значительной степени зависела жизнь несчастных обитателей этого дома.
Реб Элиягу так самоотверженно выполнял свои обязанности, что заслужил репутацию одного из праведников ишува. А в те времена заслужить такую репутацию было не так-то просто — ведь даже самые простые жестянщики и скромные сапожники Иерусалима были Б-гобоязненными и глубоко образованными людьми.
Разгадка успеха, который неизменно сопутствовал реб Элиягу в сборе пожертвований, заключалась в его особом подходе к людям. Его мягкие речи и шедшие из самой глубины сердца просьбы настолько размягчали людские души, что всякий человек, к которому он обращался, готов был тут же расстаться с частью своего скромного заработка, лишь бы помочь реб Элиягу сохранить иерусалимский дом призрения. Стоило человеку приметить рядом с собой изборожденное морщинами лицо реб Элиягу, его впалые щеки и серебряную бороду, как он уже заранее знал, что сейчас последует какая- то сдержанная, пусть самая малая просьба, перед которой он ни за что не устоит.
Небеса спослали реб Элиягу добровольного и верного помощника в лице его ближайшего друга реб Шломо Каца. Их сближала не одна только забота о старых и немощных иерусалимцах. Некогда они вместе, еще детьми, изучали Тору, в течение долгих лет вместе росли в ишуве, деля тяготы его скудной и трудной жизни. Не удивительно, что их дружба не поддавалась описанию с помощью таких банальных выражений как «братская любовь» или «искренняя преданность». Почти шестьдесят лет подряд они делили друг с другом каждую мысль и каждое чувство, каждую радость и каждую печаль. И не было на свете такого, чего бы один не готов был сделать — и не делал — для другого.
НЕЧЕГО И ГОВОРИТЬ, каким потрясением и горем оказалась для реб Шломо смерть его друга и брата реб Элиягу. В своих переживаниях он был не одинок — горестное известие опечалило сердца бесчисленных иерусалимцев. Множество людей, которым реб Элиягу так или иначе помог при жизни, пришли выразить свое горе в связи с его смертью.
Стоял грустный, унылый день; небо затянулось серыми, мрачными тучами, и щеки уже покусывал первый резкий морозец. Казалось, будто сама природа сокрушается вместе с людьми, и в воздухе застыла тяжелая, неподвижная печаль. Но даже плохая погода не помешала сотням мужчин и женщин выйти в город, чтобы отдать последние почести покойному.
Толпа заполнила улицы и растянулась на многие кварталы, она запрудила узкие, извилистые переулки, сходившиеся к главной дороге, по которой медленно двигалась похоронная процессия — целое море людей, одетых в традиционные иерусалимские черные одежды. Тщетно пытались опоздавшие пробиться к гробу — там не было ни одного свободного места. Вдоль всего пути стояли женщины, дети и немощные, почти неспособные ходить, старики, а из обведенных арками окон одноэтажных и двухэтажных каменных строений следили за процессией сотни других иерусалимцев, которым покойный оказал так много благодеяний.
ВО ГЛАВЕ ЭТОГО медленно продвигавшегося шествия шел безутешный реб Кац. Никогда еще он не выглядел так потерянно, как в этот печальный день. Глядя, как его скорбная фигура движется за гробом, многие из тех, кто знал о тесной дружбе, связывавшей его с покойным, не могли удержать слез. К глубокой скорби, вызванной кончиной реб Элиягу, примешивалось столь же глубокое сочувствие и сострадание к реб Шломо. И вдруг, в момент самой что ни на есть высочайшей скорби внезапно произошло нечто такое, что тотчас превратило это сочувствие и сострадание в недоумение и даже возмущение. На глазах у всех собравшихся реб Шломо, покинув похоронную процессию, резко свернул в сторону и, ничего не сказав, вошел в оказавшуюся на пути никому не ведомую цветочную лавку!
Можно ли вообразить более неуместный, оскорбительный и непонятный поступок?! Не удивительно, что люди стали обескураженно останавливаться на ходу, в полной растерянности поворачивать головы в сторону злополучной лавки и в глубине души молить Всевышнего только об одном — послать им объяснение этого загадочного и возмутительного поступка.
Увы, реб Шломо и не подумал что-либо объяснить — выйдя из лавки с цветочным горшком в руках, он даже не подумал вернуться в ряды процессии, а вместо этого торопливым шагом направился в прямо противоположную сторону, в направлении Масличной горы.
Событие было не из ординарных. И совершенно естественно, что представители всех слоев населения еврейского Иерусалима, пришедшие воздать последние почести и хоть отчасти выплатить долг человеку, который столько сделал для города, начисто забыли, зачем пришли, и принялись на все лады обсуждать возмутительное поведение реб Шломо Каца. «Что ему вдруг потребовалось покупать этот горшок?! Неужто он не мог подождать еще один день?!» — недовольно роптали собравшиеся.
ПОСТУПОК РЕБ ШЛОМО потряс даже неизменно мягкого и добродушного реб Лейба Леви, одного из самых уважаемых цадиков Иерусалима. Не скрывая своего возмущения, он торопливо пошел вслед за виновником замешательства, чувствуя, что он обязан сейчас же, немедленно, как следует отчитать его и направить на путь истинный. Разве не учит Тора: «Не утаивай в сердце ненависти к брату своему, но усовести ближнего…»? Не желая копить в душе раздражение, реб Лейб решил тут же, ни на минуту не откладывая, «усовестить» реб Каца.
«Я никак не могу понять, — мягко заговорил он, догнав уходящего и взяв его руки в свои, — разве Вы не были ближайшим другом покойного на протяжении целых шестидесяти лет? Где же Ваше уважение к нему? Как Вы могли покинуть процессию ради какого-то цветка?»
Реб Шломо нисколько не обиделся. Будучи глубоким знатоком человеческой натуры, он и сам понимал, что его поступок может показаться окружающим возмутительным и вызвать их резкое осуждение. Поэтому он столь же мягко взял реб Лейба под руку и, увлекая его в сторону от процессии, стал быстро и горячо объяснять:
«Реб Лейб, я не собираюсь отвлекать Вас от похорон, но поверьте — мне просто нельзя больше задерживаться ни на минуту. Видите ли, тому уже много лет я регулярно навещаю в больнице одного несчастного прокаженного. Вчера он умер, и врачи-христиане во избежание заразы распорядились сжечь все его пожитки. Меня охватил страх, что они могут сжечь заодно и его тфилин. Я объяснил одному из врачей ситуацию, и по моей настоятельной просьбе он согласился сделать исключение — не сжигать эти тфилин, а разрешить мне похоронить их в земле. Он велел, чтобы я еще сегодня до полудня принес в больницу цветочный горшок с землей, в который можно было бы зарыть эти тфилин. Но у меня со вчерашнего дня не было ни минуты свободного времени — вы же знаете, я неотступно находился возле тела усопшего друга. Надеюсь, Вы поверите, если я скажу, что, зная реб Элиягу так, как мог знать его только ближайший друг, я более чем уверен, что он на моем месте поступил бы точно так же. Вы ведь знаете, что когда нужно было помочь ближнему, он не останавливался ни перед чем!»
Реб Лейб низко склонил седую голову. Теперь ему было очевидно, что во всей этой огромной толпе не было человека, который больше, чем реб Шломо, жаждал бы сопровождать покойного к месту его самого последнего успокоения — но именно этому человеку Г-сподь послал более высокую мицву. Украдкой смахнув непрошенную слезу, он негромко отозвался: «Пусть этот день станет мне уроком — всегда толковать сомнение в пользу ближнего. И да ниспошлет Господь утешение всем скорбящим в Иерусалиме!»
С этими словами реб Лейб быстро направился обратно к похоронной процессии, спеша упросить реб Элияугу Рейхмана взмолиться перед Господом о милосердии для всех сынов Израиля.