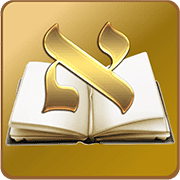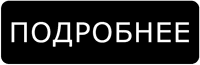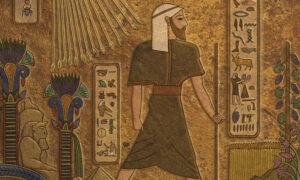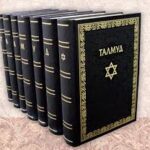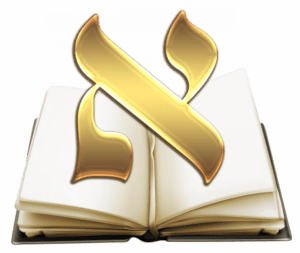Рав Яаков Галинский
«И дал Яаков обет, сказав: если Б-г будет со мной, оберегая меня на пути, которым я иду, и даст мне хлеб для еды и одежду покрывать себя. И если я вернусь с миром в дом отца моего, – тогда Г-сподь будет мне Б-гом» (Берешит, 28:20 – 21).
Объясняет Сфорно: «если у него будет необходимое для жизни – хлеб и одежда»; он не просит лишнего. И он вернется с миром, то есть здоровым душой и телом, – тогда он обязуется выдержать меру Суда, на которую намекает слово Элоким (Б-г).
Однако я хочу понять: а если у него не будет хлеба и одежды, не дай Б-г, разве тогда он не будет обязан достичь совершенства – способности выдержать любую проверку? Ведь даже его потомки, которые наверняка не достигли его уровня, выдерживали испытания и в тех тяжелых ситуациях, когда у них не было хлеба и одежды!
Ответим на этот вопрос историей.
Однажды рав Хаим Альберштам, адмор из Цанза, спросил у проходящего мимо еврея: «Скажи мне: если ты найдешь на улице кошелек, полный денег, и никого нет вокруг, – что ты сделаешь?»
Тот сразу ответил: «Что за вопрос, раби? Конечно же, постараюсь вернуть владельцу! Опубликую объявления о находке – и верну!»
«Ты человек бесхитростный», – сказал рав. «Постой тут».
Подозвал другого еврея и задал тот же вопрос. У того глаза загорелись: «Раби, Цанз – город, большинство жителей которого – неевреи, так что если человек что-то нашел – это его: потерявший уже наверняка отчаялся найти потерю. Да, было бы здорово… Я бы наконец отдал все долги!»
«Ты говоришь нехорошо», – сказал рав, – «постой здесь тоже».
Позвал третьего и задал тот же вопрос. Тот ответил: «Если бы Вы, раби, спросили меня, что следует сделать, – я бы сказал, что нужно постараться найти потерявшего, и вернуть ему. Но Вы спрашиваете, что бы я сделал, – отвечу честно: не знаю! Доброе начало подталкивало бы меня вернуть, а дурное – тут же стало бы искать повод и разрешение не возвращать – мол, здесь большинство жителей неевреи, и следует в первую очередь думать о семье и не устрожать за счет детей… Доброе начало и дурное стали бы воевать, – и я не знаю, кто бы победил…»
«Ты мудр!» – произнес раби.
И надо думать, что именно он и вернет пропажу! Он знает, что придет испытание, и готов к нему… Знает, что скажет ему доброе начало, и сможет принять правильное решение!
Именно это и сказал наш праотец Яаков: «Владыка мира! До сих пор я спокойно жил в доме своего отца, а потом – в шатрах Шема и Эвера. У меня были хлеб, и одежда, и крепкое здоровье, — и был я иш там – цельным, совершенным человеком! Если и дальше у меня будет все это, – я смогу обязаться (быть таким и дальше); а если нет, – я попаду в испытание! Что будет? Доброе и дурное начало станут воевать, и кто победит – неизвестно…»
Поэтому и сказали наши мудрецы: нельзя человеку навлекать на себя испытание, ведь когда царь Давид сделал это, – он не выдержал! (См. «Брахот», 4а. Сказал Давид перед Всевышним: «Владыка мира! Почему говорят «Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова», но не говорят «Бог Давида»?» Всевышний ответил ему: «Я подвергал тех троих испытаниям, и они их выдержали». На что Давид сказал: «Испытай и меня!» И Давид не выдержал – в истории с Бат Шевой (Млахим-2, гл. 11).
И вот – если царь Давид не выдержал испытания, а до него наш праотец Яаков боялся его, то мы уж – тем более должны бояться!
Так заканчивает свою статью рав Яаков Галинский.
ХИДУШ
Пишет Сфорно: «»Если и т. д.», – тогда, говорит Яаков, он сможет выстоять даже в проверке мерой Суда», – то есть не полагаясь на милосердие Всевышнего.
И здесь многое может показаться непонятным. «Если и т. д.» – как можно ставить Всевышнему условия? Он делает и будет делать то, что считает нужным!
И еще: недер, обет – сам по себе испытание, недаром есть у нас общее правило – воздерживаться от него и всего ему подобного; и перед Рош А-шана мы проводим церемонию освобождения от нечаянно данных обетов, и поем Коль нидрей… Так что какого-то испытания Яакову не избежать, – ему, идущему в дом Лавана взять себе невесту… Так каким же образом взятый обет делает это общее испытание более легким? И что будет после возвращения домой, – должен ли он будет продолжать жить так, чтобы «выдерживать меру Суда, на которую намекает слово Элоким (Б-г)», как пишет Сфорно? Ведь «нельзя понижать в святости, а можно только повышать»…
И ответ в том, что никакого «понижения», конечно же, не будет: жить «по мере суда» для Яакова – вовсе не нечто новое! Как до сих пор, в доме отца и в шатрах Шема и Эвера, он говорит, «был я иш там – цельным, совершенным», то есть именно служил Всевышнему «по мере суда», – так будет и после возвращения домой!
И только там, куда он идет, в Падан-Араме…
Прежде всего: в его обете, кроме хлеба и одежды, на которые Сфорно (и не только он) делает акцент, есть еще два условия. Первое – «если Б-г будет со мной, оберегая меня на пути, которым я иду», и последнее: «…и если я вернусь с миром в отцовский дом»; а хлеб и одежда – между ними. Два эти условия повторяют то, что Всевышний уже обещал Яакову во сне: «И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в землю эту, – ибо Я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе» (Берешит, 28:15), – так зачем они?
Дело, как представляется, в том, что Всевышний испытывает праведников постоянно, и одно из частых и нелегких испытаний – когда им кажется, будто Он не исполняет обещанного – слишком долго; либо происходящее противоречит если не формально, по букве, то по духу тому, что обещано… Авраам приходит в обещанную ему землю – а там идут войны, потомки Хама отнимают ее у потомков Шема, к которым принадлежит Авраам, – а далее в ней начинается голод… И сколько такого было потом в пустыне, более всего – в испытаниях золотого тельца и соглядатаев, которые не выдержали…
И вот – Яаков отправляется на такое трудное и опасное дело, что заново просит о том, что уже обещано ему, – и этим как бы говорит Всевышнему: «Исполняй это так, чтобы я это видел и ощущал – постоянно!» В этом, действительно, – большое облегчение испытания… И в конце, перед побегом от Лавана, он свидетельствует перед своими женами: «Я вижу по лицу отца вашего, что он ко мне не таков, как вчера и третьего дня; но Б-г отца моего был со мною! Вы же знаете, что я всею силою своею служил отцу вашему, – а отец ваш глумился надо мною… Но Б-г не дал ему сделать мне зло. Если он сказал: «крапчатые будут тебе наградою», то весь скот родил с крапинами. А если он сказал: «пестрые будут тебе в награду», то скот весь и родил пестрых. И отнял Б-г скот у отца вашего, и дал мне… И сказал мне ангел Б-жий во сне: Яаков… Возведи очи свои и посмотри: все козлы, поднимающиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами; ибо вижу Я все, что Лаван делает с тобою» (там, 31:5 – 12).
И дело в принципе здесь вот в чем. Мы говорим: «дела отцов – знак их сыновьям», – но это в полной мере верно для последующих после них поколений. Праотцы же наши – шли каждый новым, своим путем! Соответственно своему основному, у каждого иному и отличному от двух других душевному качеству. Хесед, гвура, тиферет – есть в этом своя строгая логика перехода от одного к другому. Авраам – первый, созидатель нового мира, – уподобляется Творцу в Его качестве хесед, необходимом в начале сотворения, – и получает от Него в изобилии помощь и защиту. «Я – щит тебе», – сказал Он Аврааму в трудный, критический момент после победы над царями в полной чудес, против всех законов природы войне (В которую, поначалу обычную «войну царств», вмешивается вдруг «частное лицо» с немногими людьми и определяет ее исход).
После него подхватывает эстафету служения Ицхак; его задача – сохранить унаследованную от отца Тору, – и как сын, несущий унаследованный от отца хрупкий драгоценный сосуд, он все время смотрит под ноги, оберегает себя и сосуд и не делает лишних движений, – соответственно своему главному качеству гвура – в аспекте самоограничения. И потому, когда он хочет по примеру отца уйти от голода в Египет, по правилу «дела отцов – знак для сыновей», – Всевышний не позволяет ему: «Живи в этой земле…», – и великим чудом получает в голодный год огромный урожай. И когда наступает час его найти невесту, – делают это за него отец и «длинная, верная рука» отца – раб Элиэзер.
И получают каждый из двоих защиту и поддержку – в самой прямой и очевидной форме, и обещание будущего величия от Всевышнего на этих новых для себя путях.
И вот, Яаков – просит хлеб и одежду… Он оказывается вдруг в совершенно новом положении, в котором не были его отец и дед… Те были всегда богаты, работали и рыли колодцы их рабы… И если Авраам на пути в Египет был беден и занимал деньги, а на обратном пути возвращал, – то это из-за голода, который был в тот час гзера клалит – уделом всех. А у Яакова нет ничего, Элифаз, первенец Эсава, его ограбил; и положение это – гзера пратит.
Яаков входит в ночь галута – долгого изгнания. И ему уже не гарантированы хлеб и одежда, как отцу и деду, Аврааму и Ицхаку; ему страшно, и он молится – и просит о хлебе и одежде. Как первый человек должен был молиться о дожде, – хотя Творец знает, что дождь нужен сотворенному Им миру; но Всевышнему – нужна молитва о нем! Творец хочет общаться, разговаривать со Своим творением, как нужны были молитвы Ицхака и Ривки о потомстве, – Он «жаждет молитв праведников» (Евамот, 64а). Так что «условия о хлебе и одежде» – скорей молитва, чем условие!
И вот что еще чрезвычайно важно. Яаков знает – ему предстоит идти «по лезвию ножа» в доме образцовых лжецов и обманщиков, где в два счета его могут оставить голым и умирающим от голода, как сказал он потом своим женам: «А отец ваш глумился надо мною и переменял мою плату десять раз» (Берешит, 31:7), и также Лавану: «Не стоял бы за меня Б-г отца моего, Б-г Авраама и Страх Ицхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем» (там, 31:42). И ему придется самому пользоваться «почти» их средствами – но только «кошерно», в рамках закона, – как с втыканием облупленных прутьев при водопое скота… И вот – «Разбогател этот человек (Яаков) очень-очень; и было у него множество мелкого скота и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов» (там, 30:43).
И боялся он изначально еще худшего, до чего дело не дошло, – ибо «стоял за меня Б-г отца моего», – до физической опасности, отодвигающей исполнение заповедей и заставляющей прибегать к мере милосердия: «Даже если острый меч приставлен к шее человека, – пусть не воздерживается он просить о милосердии». А Яаков – уже в начале пути просит, и дает для этого обет, помочь ему удержаться на путях служения «без милосердия», как всю жизнь до этого; и работал он на злодея Лавана «по мере строгого суда»: «Вот, двадцать лет я у тебя… Растерзанного я не приносил к тебе; это был мой убыток; из моей руки ты его взыскивал, – украденное днем и украденное ночью… Днем жег меня зной, а холод ночью, и убегал сон мой от глаз моих» (там, 31:38 – 40). Так что были «условия» Яакова по сути не условиями, – а смиренной просьбой – дать ему удержаться на вершине служения, – как мы уже сказали, – и в этом испытании тягчайшем…
И еще: если те просьбы – ради ухода от испытаний – явно благосклонно приняты здесь, в этот момент, – то почему же желание Яакова в начале главы Ва-ешев… лашевет бе-шалва – «пожить отныне спокойной жизнью», что тоже можно понимать как жизнь без испытаний, – было встречено на Небесах неблагосклонно, см. Раши там, и из-за него постигли Яакова несчастья с Диной и Йосефом? Тем более, что, как объясняют некоторые комментаторы, Яаков хотел так жить, чтобы спокойно заниматься Торой? И как нам кажется, – кто бы дал, чтобы у всех евреев были такие желания! И Яаков ведь знал, что последние годы его деда Авраама и отца Ицхака были спокойными…
И к этому вопросу мы вернемся при обсуждении главы Ва-ешев.